Переводя шекспировы труды
К 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира
23 апреля 2014 года мировая общественность будет широко отмечать юбилей великого поэта и драматурга. Переводить Шекспира на армянский начали с XVIII века. Благодаря стараниям целой плеяды переводчиков ныне нация имеет в превосходных переводах всего Шекспира. Если Ованес Масеян и Хачик Даштенц воплотили его в слове, то Петрос Адамян, Ованес Абелян, Сирануйш, Ваграм Папазян, Грачья Нерсисян, Гурген Джанибекян и десятки других артистов – на сцене. Переводят у нас Шекспира и по сей день. К знаменательной дате из-под пера поэта-переводчика Ашота Сагратяна, теперь уже в переводе на русский, увидели свет новые прочтения его «Гамлета, Принца Душевной Смуты» и «Джульетты и Ромео». Сегодня он – гость нашей редакции.
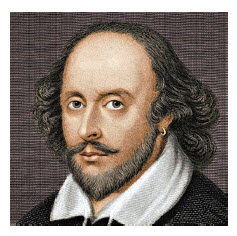 – С Гамлетом все вроде бы ясно. Личная драма переросла в трагедию. Почему во главу угла второй книги наметившейся серии Вы поставили Джульетту?
– С Гамлетом все вроде бы ясно. Личная драма переросла в трагедию. Почему во главу угла второй книги наметившейся серии Вы поставили Джульетту?
– Да потому что сам Шекспир определил ей ведущую роль в любовной истории. Движущая сила пьесы – ее любовь. Она – нерв всего произведения.
Ее добродетели придают событиям ход, движут страстями. По моему глубокому убеждению, история любви Джульетты и Ромео ретранслирована в Верону из аравийской пустыни VII века: уж больно походит она на любовь Лейли и Меджнуна, блестяще описанную персидским поэтом Низами Гянджеви еще в XII веке.
– А стоило ли браться за перевод уже раз тридцать переведенных произведений, да к тому же известными мастерами перевода?
– Начнем с того, что к работе этой приступил я не из праздного любопытства, а через постижение глубинного смысла его творений. К тому же я не текст перевожу, а диффузию отношений, вскрывая иные пласты, доселе не разработанные. Помнится, еще работая над переводом двухтомника воспоминаний Ваграма Папазяна, из уст многоопытного артиста и великого интерпретатора шекспировских ролей я не раз слышал, что всякий раз, выходя на сцену, особенно в «Отелло», он играл не как вчера, не как с предыдущей Дездемоной, а передержал он их в руках не менее трех тысяч...
Не секрет, что каждые четверть века язык требует обновления. В него входят новые слова, уходят устаревшие, изжившие себя понятия. То же относится к толкованию потаенных смыслов. Да и стих мой в переводе особенный, в строку, «циклопической кладки», без зазоров, доступный для исполнения как на концертах, так и на театральных подмостках.
– На чей опыт Вы опирались, приступая к работе?
– Основатель Шекспировской библиотеки, а затем и Шекспировского центра при Институте искусств НАН шекспировед Рубен Зарян еще в 1962 году пристрастил меня к вдумчивому чтению трагедий Шекспира. Умножил мои познания в этом космически глубинном авторе и Хачик Даштенц. Он же познакомил меня с подходами Ованеса Масеяна, лучшего из переводчиков-армян, к шедеврам великого британца. Так что школу я прошел основательную.
– На книжный рынок переводов из Шекспира пришли Вы каких-то полгода назад. Чем можете объяснить столь живой интерес к Вашим изданиям?
– Прежде всего поэтической составляющей. Думается, особое очарование этим изданиям придало графическое оформление. Сона Бабаджанян в прямом смысле слова одухотворила образы, созданные Шекспиром… Дабы не держать ни вас, ни читателя в неведении о том, как и что у кого складывается, предлагаю ознакомиться с послесловием к «Джульетте и Ромео».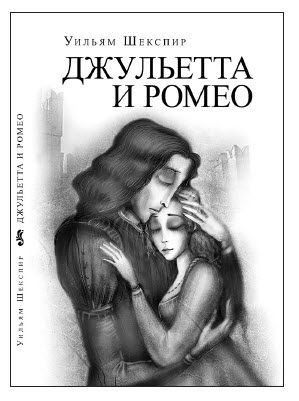
Перечитав в переводе на русский почти все писания Шекспира, испытал и я удовольствие от сопричастности к миру его исканий.
Когда же довелось услышать звучание языка Шекспира из «Фолио», мир моих представлений о его манере письма раздвинул пределы знаемого: Шекспир загудел языком тягучей образности, словно ожили вибрации, обладавшие магнетизмом завлечения публики на представления театра «Глобус» во времена, когда театр был зеркалом общественных нравов.
Язык Шекспира, стоит лишь вслушаться и вдуматься в него, сплошь язык образов. Речь его – их лепка, сотворение натур, накачка страстей. В ползучести интриг зрит он логику трагедий. Там же, довольно присмотреться к характерам, можно увидеть пушок девственности. Прикидываясь в комедиях озорным насмешником, по сути своей Шекспир – драматург мстительный. Пространство сцены у него – саван временного. Шекспир-актер доподлинно знал, что игру актера обогащают оттенки речи, мимика и жест, пластика реакции на происходящее.
Театр по Шекспиру – высвобождение чувств. Зритель входит в зал, сделав вдох на интерес. Упавший занавес – переживаний выдох. Эхо впечатлений дарует релаксацию…
Присутствуя во всех своих творениях в той или иной ипостаси, Шекспир водит зрителя по кругам ада, который всякий осознанием греховности разверзает в своей душе.
Не исключено, что в скором времени у нас появятся курсы подготовки исполнителей шекспировских ролей. Матрицу этого метода обучения оставил нам Гордон Крег, предложив играть Шекспира «в сукнах», побуждая актера заполнять пространство мизансцены теплом своего присутствия. Погружаясь в образ, да к тому же с разными партнерами, прирожденный актер раскрывает в себе и в персонаже своем нюансы, по первом прочтении и прогоне не выявленные. Жизнь в персонаже, сколь условной она бы ни казалась, тоже жизнь, исполненная радостей и печалей, раздумий и разочарований. Со временем ход мыслей может менять даже походку. Об этой и прочих метаморфозах, внушаемых Шекспиром, поведал мне опытнейший из исполнителей роли Отелло – Ваграм Папазян.
Ныне, когда Шекспир вошел и в мои плоть и кровь, когда мне дано, как воочию, зрить и слышать голоса его героев, а временами даже улавливать запах душевной усталости, склоняюсь к мысли, что за всю свою творческую жизнь написал он всего-навсего одну пьесу, имя которой «Быть или не быть?»
Если в «Гамлете» предобреченность принца воплощена душевной болью в ставшем хрестоматийным монологе, то в «Джульетте и Ромео» корни злого рока теряются во времени, уже и не помнящем причины раздора. Просто тот же вечный вопрос трансформирован в другую форму: «Любить или не любить?»
По мне тяжелая поступь языка «Фолио» чем-то напоминает язык Священного Писания на церковнославянском. Стоило его перевести на современный русский, и что-то, нечто неуловимое, улетучилось, ушло, раздев нас на расхожий язык будничных потреб. Не исключено, что, заразившись кажущейся легкостью восприятия классики, многие режиссеры наших дней весьма неосмотрительно выхолащивают энергетику шекспировского замысла.
Ключ к пониманию, а оттого и к разрешению стоявших передо мной задач при переводе дал мне сам автор, поэт и мыслитель, в афористичной форме закодировав свою философскую систему в туманность, поиски выхода из которой он оставляет на усмотрение зрителя своего и читателя.
Широкоскулый и приветливый, встречал он каждого мягкой улыбкой. Светясь на его детской открытости лице, она еще больше оттеняла глубоко посаженные глаза, горевшие временами загадочным огнем первооткрывателя. Таковым в своем роде Шаварш и был. В каждом, кого принимал душой и сердцем, он прежде всего открывал человека для себя, но еще больше для того, кого одарил своим доверием. А с этим понятием связаны были у него едва ли не самые горькие воспоминания.
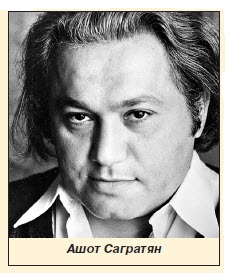 Еще студентом первого курса университета влюбился он в однокурсницу Сусанну, делясь пылкостью чувств с Вардгесом Петросяном, товарищем по общежитию, куда попросился, потому что ездить из райцентра в Ереван было накладно по времени: дорога съедала часа два только в одну сторону.
Еще студентом первого курса университета влюбился он в однокурсницу Сусанну, делясь пылкостью чувств с Вардгесом Петросяном, товарищем по общежитию, куда попросился, потому что ездить из райцентра в Ереван было накладно по времени: дорога съедала часа два только в одну сторону.
Мог ли он знать, что, питая нежные чувства к той же девушке, его приятель страдал от своего косноязычия, боясь спугнуть избранницу отсутствием хороших манер. Присутствие деликатного и благовоспитанного Шаварша лишь усугубляло его душевное недомогание.
На дворе был 1949 год. Когда новая волна репрессий накрыла республику, Вардгес решил отделаться от соперника. Состряпав донос о неблагонадежности группы студентов, особо выделил Шаварша Смбатяна, заводилу всех дискуссий на злободневные темы, отметив, что душок национализма, царивший в дискуссиях, может пагубно влиять на неокрепшие умы…
31 августа чуть свет к дому Смбатянов подъехал грузовик ЗИС. «Воронки» тридцатых годов отошли в прошлое. В послевоенную пору арестованных грузили уже, как скот. Арестовав его, отца и мать, сослали в Сибирь – на вечное поселение.
– За что? – справился отец.
– За антисоветчину…
Кабы не внезапная смерть Сталина, бог знает, что бы с ними сталось. Возвращение казалось муторно долгим, если не сказать – мучительным.
Первым делом Шаварш вернулся к учебе. Его восстановили в правах. Семье даже квартиру дали, правда, в доме еще дореволюционной постройки. Благо на улице не оставили. Родителям компенсацию выдали, оформили инвалидность, назначили пенсию.
В университете встретил бывшую однокурсницу Сусанну, столкнувшись с ней лицом к лицу.
– Шаварш? Ты откуда взялся?
– Из Сибири. Скучал по тебе… Фотографии твоей с собой не было, так что себе я тебя всякой представлял. И должен сказать, ты почти не изменилась…
– Зато тебя я с трудом признала. Глаза куда-то запали. Хотя те же, живые и пытливые…
Окончив вуз, Сусанна осталась в университете, отвечала в ректорате за готовность дипломных работ к защите. Разговорились. Узнал, что после его ареста таскали и ее насчет националистических настроений в студенческой среде.
Выслушав горестную историю Шаварша, как бы вскользь обронила, что донос был делом рук Вардгеса, который учился с ними на курсе. После ареста Шаварша он еще год или два настойчиво добивался ее руки. В слезах сказала, что на столе следователя видела то злосчастное письмо. Почерк узнала безошибочно: так коряво со всего курса писал только Вардгес.
Да вот упущенного не вернуть. Время от времени давало о себе знать и подорванное здоровье.
Диплом с отличием открыл перед Шаваршем двери только что отстроенного Матенадарана, Института древних рукописей. Радушие, с каким встретил его директор хранилища древних рукописей Левон Хачикян, ободрило и разом подняло настроение: он буквально кожей ощущал свою пригодность, если не сказать нужность, лишний раз убедившись в правоте поговорки: не место красит человека.
Упившись буйством красок на манускриптах, проникся глубочайшим уважением к трудам писцов – гричей и украшателей рукописей. Четкие, будто кованые, буквы словно требовали вникнуть не только в то, что чернилами выведено, но и в дух писания, от которого веяло хладом событий.
Коллектив Матенадарана принял Шаварша как родного. Даже келью отвели на двоих, чтоб работалось веселее. Первым – на правах старшего сотрудника – опеку над ним взял Арамаис Мнацаканян. Потом установились доверительные отношения со всеми сотрудниками. Марго Дарбинян и Лена Ханларян, работавшие экскурсоводами, неизменно звали его – побыть с ними, если в демонстрационном зале появлялся важный гость, в основном из иностранцев. Так довелось ему свидеться с Вильямом Сарояном, Гарзу, благотворителями-богачами Манукянами из США, выделившими миллион долларов на обустройство Патриарших покоев в Святом Эчмиадзине и музея, где хранятся отлитые из чистого золота Месроповы письмена. Ведь до постройки нового здания Матенадарана бесценные книги, спасенные нередко ценою жизни, хранились именно в Эчмиадзине.
С первого же дня не давала ему покоя книга, выставленная на обозрение в демонстрационном зале. В незапамятные времена монахи спрятали ее в пещере от нашествия полчищ Ленк Тимура и сами скорее всего пали под ударами их мечей. Капала известковая вода на ту книгу, капала, пока та не окаменела. Остались страница первая и последняя. Постичь ее содержание можно было разве что силой воображения. Эти и другие чудеса окружали его, когда руководство Матенадарана решило доверить ему серьезную работу – перевод на русский труда историка V века Егише о «Войне Армянской».
Сведя дружбу с художником Ваником Хачатряном, расписавшем в духе хранилища все его потолки и стены, он еще больше проникся значимостью своего в одухотворенных стенах тех присутствия.
При виде сотен эскизов и десятков картонов в его мастерской буквально воспарил над временем, дабы с птичьего полета глянуть на панораму битвы с персами на поле Аварайра и реке Тгмут.
Пылкое воображение перенесло его во время оно, и пока работал над текстом, видел себя иереем Гевондом, ведущим народное ополчение на разъяренных слонов, которые, вскинув хоботы, трубно ревели, опьянев от вина, которым опоили их накануне…
В себя пришел в кабинете директора, когда, сдав работу, пришел узнать, как оценен его труд.
Человек крайне тактичный и добрый, директор Матенадарана не знал, с чего начать. Дело в том, что на рецензию работу дали Каро Мелик-Оганджаняну, убеленному сединами академику, единственному из уцелевших после сталинских чисток в республике выпускнику Лазаревского института восточных языков.
– Дорогой Шаварш, полагаю, что, проделав титаническую работу, ты мог бы по ней и кандидатскую диссертацию защитить, но, видишь ли, дело в том, что, ознакомившись с твоим переводом, академик внес пару поправок, и из уважения к его возрасту, не говоря уже о заслугах, Президиум Академии изъявил желание увидеть на юбилейном издании прежде всего известную фамилию… Понимаю, как тебе обидно, что обстоятельства навязали тебе соавтора. Смею надеяться, ты понимаешь, в сколь неловкое положение и меня поставил Президиум Академии. Такое у нас в стране случается и не только в нашей области знаний. Но знать ты должен, ты у меня на хорошем счету. В порядке компенсации Академия рекомендовала нам поощрить тебя денежной премией в размере месячного заработка.
– И этой жалкой подачкой Президиум Академии хочет заткнуть мне рот? Не нужны мне их деньги! Оставьте меня в покое!
– Не кипятись, Шаварш. Дело поправимое: после случившегося ученый совет института решил именно тебе доверить перевод труда историка Каланкатваци «История Кавказской Албании». Знаем, ты с этим справишься.
…В аллеях парка Победы, вставшего над зданием Матенадарана, Шаварш прогулял остаток дня и полночи: не мог успокоиться. Ввалившись в дом, увидел, что мать еще не ложилась. Бросился ей в ноги и, впервые за всю взрослую жизнь, без стеснения разревелся. Ему стыдно было себе в глаза смотреть. Почему он смолчал? А что бы дали возражения? Вопрос и так был решен, без его ведома. Там, наверху, в Президиуме Академии. Куда ему, бывшему ссыльному, тягаться с именитым академиком Каро Мелик-Оганджаняном?!.
Выйдя утром на работу, понял, что, за редким исключением, сотрудники Матенадарана ему сочувствуют, кто словами утешения, кто предложением сбегать в кафе напротив – поесть горячих пончиков…
Горькая обида, еще вчера снедавшая его, сменилась светлой идеей – высадить под стеной Института древних рукописей виноградную лозу в честь 400-летия со дня рождения Шекспира, самого почитаемого армянами автора в мировой литературе.
Уже сама эта мысль отогрела душу и отвлекла от будничной суеты. Созвонился с Институтом виноградарства, поделился идеей и нашел там понимание. Назавтра ему велели приехать за лозой. Обещали дать виноградную лозу лучшего из армянских сортов – воскеат, золотая ягодка. Именно ее много веков тому назад вывезли из Армении испанские монахи, прославившись на весь мир своим хересом из винограда, первую лозу которого высадил Ной на отрогах библейского Арарата.
Выкопав лунку под лозу, Шаварш съездил в Святой Эчмиадзин, попросил архимандрита, служившего в тот день в соборном храме, освятить ту лозу и привез в Ереван. Помочь ему вызвались едва ли не все…
Впервые взявшись за заступ, Шаварш вдруг ощутил неведомую ему дотоле связь с землей. Если в битве на поле Аварайра связь с родной землей ощущал он мысленно, то теперь ее теплый дух пронзил его насквозь.
Почва под стеной Института была каменистой, но он одолел ее, надумав натаскать откуда-нибудь еще землицы. Однако сторож Матенадарана отговорил его от этой затеи, сказав, что лозе армянской от природы дано самой вгрызаться в любую почву и крепить ее своими корнями. Так было испокон веку даже на горных склонах.
В год, когда Шекспировская лоза дала первый урожай, Шаваршу встретилась женщина, ставшая его музой до конца дней…
Родители его ушли из жизни, так и не узнав, что сын обрел семью.
На похоронах хлебнувшего лиха Шаварша играл одинокий дудук.
Ашот Сагратян






Оставьте свои комментарии