Я достаю из широких штанин...
Что привело меня в изумление по прилете из Москвы в Ереван: все пассажиры на паспортном контроле – а они, за исключением двух-трех человек, были армяне – держали в руке российский паспорт. С гордостью, надо сказать, держали, что похвально, но при виде такого количества новоявленных «иностранцев», я не мог не задаться вопросом: в ЦУМе, что ли, была распродажа? Попутно мое нездоровое воображение нарисовало картину недалекого будущего, когда большая часть жителей Армении, включая грудных детей, станут гражданами России. Хорошо это? Я не успел ответить себе на этот вопрос.
Моя дочь, встретившая меня в аэропорту, внесла поправку в мои фантазии. Немало уехавших армян имеют также паспорта других государств, и в этом легко убедиться, летая не в одном и том же направлении, как это делаю я, но и по другим маршрутам, как это делает она. Все упирается в возможности: одни тянут на российский двуглавый, другие – на французский, третьи – на канадский, на аргентинский, мексиканский, польский, чешский, на худой конец – болгарский или греческий… Не говоря уже о высочайшем благе – паспорте американском.
Демократическими судорогами не страдаю, однако ничего не имею против свободного выбора гражданства, идеальной формой которого считаю паспорт гражданина мира. Его еще не изобрели и вряд ли изобретут в грядущие столетия. История знает множество примеров сближения и разобщения народов, взаимной симпатии, антипатии, и претензий. Процесс непрерывного распада и объединения, притяжения и отторжения человеческих сообществ отдаленно напоминает таинственные процессы, происходящие во Вселенной, и здесь должна существовать какая-то невидимая связь. Тема, согласитесь, интересная, хотя и отвлеченная, поэтому поговорим лучше о другом.

Клим Чугункин из Кукуево
Я прошу прощения за пример, который приведу, но есть у меня рассказ, действие которого происходит в мире, где обитают души, готовые к отправке на Землю. То есть каждому вновь рожденному ребенку полагается душа, которая проживет в теле этого человечка, пока он будет расти, взрослеть, стареть, а в положенный срок покинет этот мир и вновь вернется в вечность в ожидании новой командировки. Представьте себе диспетчерскую, где выдают путевки, и очередь, состоящую из душ с чемоданчиками. Они, как вы догадываетесь, пока не имеют пола, но характер в процессе многих воплощений уже сформировался. Все начинается со скандала, который поднимает душа, получившая нежелательный маршрут. На путевке написано, что она должна родиться в Кукуево, на правом берегу реки Мутной, в семье тракториста. В то время как на путевке соседа сказано, что тот должен родиться в Париже, на правом берегу Сены, в семье профессора, лауреата Нобелевской премии. Причем нашему неудачнику второй раз суждено родиться в Кукуево, в то время как его сосед в прошлый раз родился в Лондоне. «Это нечестно! – вопит бедолага, круша все вокруг. – Несправедливо! Диспетчер подкуплен!» Его пытаются урезонить, объясняют, что не может быть подкупа в мире душ, что все логично, каждый проходит свой путь очищения и, возможно, в следующий раз он родится в семье министра культуры Мозамбика. Тоже сомнительное удовольствие, но все же лучше, чем Кукуево. Да и что такое жизнь человеческая – один миг – какая разница, где его прожить? Но миг этот может быть счастливым или несчастливым, и уж если сосед столь очищен, что имеет право родиться в лучших городах мира, и нет разницы, где прожить короткий миг, не будет ли ему угодно поменяться путевкой с неудачником?..
Не стану утомлять вас дальнейшим пересказом, добавлю, что история заканчивается парадоксально. Я люблю парадоксы и считаю, что они повсюду, мы купаемся в парадоксах, но, задавленные разного рода клише, их не замечаем. В самом факте рождения заложен великий парадокс, поскольку вся дальнейшая жизнь человека так или иначе подчинена этому факту. Что в принципе отличает одного новорожденного от другого? Один родился Борменталем, другой Климом Чугункиным (Булгаков, «Собачье сердце»), и ничего тут не поделаешь. Но и Чугункин мог родиться не в том месте и не от тех родителей, и это был бы уже не тот Чугункин. Да ведь и родители его могли родиться и прожить жизнь в других условиях, и тогда это были бы не те Чугункины, и сын их был бы не тем Климом, ставшим сутью Шарикова. Предположим, профессор Преображенский нашел для своей фантастической операции труп совсем другого человека, скажем, князя Мышкина, – каким получился бы Шариков в этом случае? Иначе говоря, что есть судьба, что случайность, а что закономерность? И если в каких-то случаях срабатывают грехи предков, что тогда отличает бездомного пса, роющегося в мусорном баке где-нибудь на окраине Еревана, от ухоженной собаки со специальной прислугой на богатой вилле на берегу океана? Какие тут грехи? Впрочем, с собачьими грехами я плохо знаком, с человеческими – значительно лучше.
Вы скажете: тем и отличается человек от собаки, что, приложив усилия, может изменить свою жизнь, внести поправку в заданную программу. И будете правы. Но сколько усилий потребуется «неудачно родившемуся», чтобы добраться до той ступени, на которой стоит кто-то другой, кому повезло появиться на свет в нужное время и в нужном месте? Вот где несправедливость. Хотя несправедливость ли? Родителей и родину не выбирают. Эзотерики, правда, об этом особого мнения, но не будем вторгаться в космическую неопределенность на страницах конкретной газеты, затрагивающей конкретные темы. Обратимся к делам земным. Начнем с того, что разные территории на планете изначально обустроены неодинаково. Где-то существовали великие цивилизации, а где-то их не было; где-то цивилизации приходили в упадок, а где-то вновь образовывались. Где-то люди обрабатывали землю и пасли скот, а где-то возводили архитектурные сооружения, печатали книги и делали научные открытия; где-то в тени деревьев играли на свирели, а где-то в больших залах с хрустальными люстрами давали оперу… В конечном счете мир поделился, условно говоря, на Большой Запад и Большой Восток. Во все времена находились энергичные люди, боровшиеся с фактом собственного рождения, стремившиеся из менее цивилизованных мест в более цивилизованные, из менее обустроенных в более обустроенные. Во все времена также находились люди, их осуждающие, им завидующие или заражающиеся их примером. Вопрос здесь может быть один – какова цель? Мне лично близок и понятен уроженец Холмогор Михайло Ломоносов, в 18 лет получивший паспорт и пешком добравшийся до Москвы, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию. Ближе и понятнее, нежели какой-нибудь лавочник, решивший разбогатеть в большом городе. Причем прошу обратить внимание на то, что Ломоносов происходил не из бедной и голодающей семьи. Как и Альфред Хичкок или Франц Кафка, сыновья преуспевающих торговцев. Ничего не имею против лавочников и предпринимателей, среди них встречаются добрые и отзывчивые люди, так же как среди так называемой элиты – мерзавцы и негодяи. К тому же экономика, как известно, – двигатель общества, а оно, общество, состоит не сплошь из Ломоносовых. И все же я склонен говорить о людях, изменивших программу собственного рождения ради большой и не обязательно материальной цели. Их устремления вызывают уважение. Фредди Меркьюри (Фарух Булсар) родился на острове Занзибар, получил англоязычное образование и в 18 лет перебрался в Лондон. Тоже, кстати, не из бедной семьи и не хлеба ради. Владимир Набоков всю жизнь скитался по миру: Санкт-Петербург, Франция, Германия, Америка и под конец Швейцария. Любопытна биография великого Луиса Бунюэля. Родился в испанской провинции, в 17 лет перебрался в Мадрид, где учился в университете, с 24 лет жил в Париже, а в 36 лет эмигрировал в США, но на этом не успокоился и в 46 лет перебрался в Мексику, где получил гражданство и оставался до самой смерти. Его приняла бы с распростертыми объятиями любая европейская столица, но он почти сорок лет оставался мексиканцем по паспорту и скончался в Мехико в возрасте 83 лет. Прямо скажем, не центр мира. Чего же ради? Ответ на этот вопрос можно найти в его последнем фильме, философской притче «Симон-пустынник». Или же в названии одной из последних и, на мой взгляд, лучших его лент: «Этот смутный объект желания».
Именно они, смутные объекты желания, ведут нас по жизни, руководя нашими поступками. Так уж устроен человек: всегда кажется ему, что где-то лучше, комфортнее, совершеннее, и сделай он шаг в сторону, проживи иначе, все сложится удачнее. Большая доля правды в этом есть, хотя замечу попутно, что не все в жизни подчиняется формальной логике. Выше я привел пример с собаками и сейчас, сию минуту, подумал о том, что собака, роющаяся в мусорном баке, не знает, что на свете есть другие собаки с лучшей судьбой. У нее нет критериев, она не смотрит телевизор, не общается с заморскими собаками, не читает глянцевых журналов. А человек смотрит, читает, общается, и это обстоятельство не дает ему покоя. С другой стороны, заметим, опять же справедливости ради, что бы ты ни сделал, куда бы ни направился, не убежишь от себя, от времени, от старости, от вечной неудовлетворенности и конечного прозрения: жизнь – это шутка Бога. На смертном одре, уже на вершине всеобщего признания и славы, Альфред Хичкок произнес последние в жизни слова: «Боже, как я устал!..»
Город контрастов
Боже, думаю, как же, наверное, устал читатель от моих рассуждений, как ему хочется остановить меня, перевести в конкретное русло, к конкретным, простым и ясным оценкам. Это хорошо, то плохо, этот деятель думает о народе, а тот не думает, мы должны идти таким-то путем и ни в коем случае не идти другим. Я вам на это вот что скажу: во-первых, я уважаю читателя и полагаю, что все это он знает не хуже меня; во-вторых, убежден, что у сильной личности свой путь, в-третьих, не люблю лозунговую конкретику и считаю, что она хороша для митингов. Люди, склонные к лозунгам, похожи на тех, кто придумывает рекламные слоганы: как правило, сами они не употребляют продукты, которые рекламируют. Но если все же не хватает фактуры, извольте.
Совсем недавно, сегодня то есть, в полдень, позвонили в дверь. Открываю: на пороге пожилая женщина с виноватым выражением лица держит в руке полиэтиленовый пакет. Извините, говорит, я не нищенка, но, понимаете, ребенок болен, требуется лечение, а в доме только мы с дочерью и шаром покати. Зять давно уехал, и нет от него вестей. Не могли бы вы дать что-нибудь из еды или немного денег, сколько сможете, если вас не затруднит? Такими именно словами. Я говорю, проходите, она – нет, я тут постою. Я что-то собрал, дал. Она: спасибо, храни вас Бог, не сердитесь, извините. Поклонилась, перекрестилась и звонит в дверь к соседям. Я вернулся в комнату, сел на диван, тупо уставившись во включенный телевизор. На каком-то телеканале показывали танцующих мальчиков и девочек – музыкальный клип то есть. Прыгают, скачут, бедрами синхронно виляют. Научились не хуже других. На другом канале ток-шоу. Участники поделены на две группы, по обе стороны барьера. Спорят ожесточенно: если мы ориентированы на Европу, то надо ли подражать ей во всем или должен быть отбор. Ведь у нас свои традиции. Интересно, что они называют «своими традициями». На следующем канале съемочная группа явилась домой к какой-то певице. Хозяйка не без гордости показывает гостям нехилое убранство своей квартиры. Похоже на интерьер из голливудского фильма. Звезда увлеченно рассказывает, как дожила до жизни такой. Ведущий тем временем обращает внимание на книжные полки и замечает: хорошо, что здесь собраны книги только на армянском языке. «О да, – с патриотическим пафосом подтверждает хозяйка. – Я читаю только на армянском». Ну, дурдом! Я выключаю «ящик». Вернется несчастная женщина, что звонила мне в дверь, с тем, что насобирала по квартирам, включит телевизор и будет слушать все это? Вряд ли. Была в прежние времена такая штампованная фраза советского агитпропа: «Нью-Йорк – город контрастов». Или любой другой большой город за железным занавесом. Еревану за этими городами не угнаться, но сегодня, надо признать, по части контрастов и он не лыком шит. Я выхожу на балкон. Во дворе собрались мужчины, о чем-то толкуют. Кто-то моет машину, кто-то сидит на корточках, как петушок на насесте. Курят. Лица озабочены, заняться нечем. О чем говорят, отсюда не слышно, но могу предположить: рассказывают друг другу, как устроились в дальних краях их родственники и знакомые, как им удалось заработать в поте лица – деньги само собой – иностранные паспорта. Жены тем временем, высунувшись из окон, вывешивают белье – любимое занятие армянских домохозяек. Здешнее солнце, надо сказать, высушивает белье в мгновение ока. Женщины быстро собирают его и тут же вывешивают новое. Похоже на стахановское движение. Молодые не знают, жил на Донбассе знаменитый рудокоп Стаханов, который, когда забирался с отбойным молотком в шахту, его оттуда калачом нельзя было выманить. Почему деятели телевизионных искусств не догадаются устроить конкурс среди женщин по стирке и сушке белья? Не все же телепроекты копировать с других. Можно провести международное соревнование с городом-побратимом Неаполем, где улицы крест-накрест перекрыты разноцветным бельем, олицетворяющим флаги всех стран и народов.
А еще вспомнилось вот что. Как-то зашел в банк, чтобы получить гонорар. Только дошла моя очередь, как ни с того ни с сего во всем банке зависла Сеть. Такое изредка случается не только в Ереване. О чем я поведал стоявшим рядом взволнованным посетителям, сетовавшим: вот, мол, в какой дыре живем. Может, и дыра, но она гораздо шире, чем думаете, если, конечно, это вас успокоит. В общем, пришлось ждать, пока всё наладят. Ждали чуть больше часа, и за это время в помещении набралось невиданное количество посетителей. Толпа не умещалась внутри, часть вышла наружу. Дело было после праздников, люди поистратились и нуждались в пополнении финансов. Девушки за окошками терпеливо объясняли людям, что ситуация не безнадежная и компьютеры очнутся раньше, чем костлявая рука голода потянется к их горлу. В общем, Сеть заработала, народ охватило праздничное настроение, и посетители один за другим стали покидать помещение, считая на ходу кто рубли, кто евро, кто доллары. Рубленосцев было заметно больше. Вырисовывалось такое, знаете ли, историческое полотно типа «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Только наша картина могла бы называться: «Ереванцы получают помощь от соотечественников». Как я уже сказал, я не сторонник однозначных оценок – хорошо, плохо, правильно, неправильно, патриотично, непатриотично – ко многим сегодняшним ситуациям они не подходят. Не разъехались бы родные и близкие по городам и весям, кто бы заботился об оставшихся, не столь молодых, не столь здоровых и не столь энергичных? Жизнь в Ереване, доложу вам, не намного дешевле, чем в других столицах. Городской транспорт вполне доступен, некоторые сельхозпродукты – тоже, но многое другое никак не соответствует ни средней зарплате, ни птичьим пенсиям. О медицине молчу, потому что если я заговорю о ней, то это будет долгий и грустный разговор. Когда слышу в телепередачах добрые советы эскулапов типа «проконсультируйтесь с лечащим врачом» или «проверяйтесь периодически», у меня это вызывает улыбку. Сказали бы прямо, без ложной стыдливости: попросите денег у родственников, вкалывающих там и сям, и несите сюда, потому что и нам кушать охота. Не у всех, однако, есть хорошо зарабатывающая родня и не всем родня с готовностью помогает. Я знаю больных, которые годами корчатся от разных хворей и не ходят к врачам, потому что эти походы им не по карману. Слава Богу, климат относительно благоприятный, есть бесплатное солнце.
Коль скоро Ереван – город контрастов, то уместно добавить, что имеется также определенный процент населения, которому многое по карману. Не ворюги и взяточники, а вполне порядочные люди, зарабатывающие на своей же территории. Только не всем везет с хорошо оплачиваемой работой. Или хоть с какой-нибудь работой, соответствующей полученному образованию. Одна моя знакомая – из везучих – три года строила за городом одноэтажный дом в четыре комнаты, который обошелся ей в 200 тысяч долларов и череду нервных потрясений. Иметь дело с дорвавшимися до денег горе-мастерами не только женщине – не каждому мужчине под силу. Когда я сказал ей, что на потраченные деньги можно было купить двухкомнатную квартиру в Москве, она ответила: «Зачем мне Москва? А если я хочу жить в своей стране достойно, как белый человек, в окружении таких же белых людей?..»
«Звартноц»
Заметили, что с некоторых пор у постсоветских граждан стала обычной фраза «эта страна»? Не «наша» или «моя», а «эта». Так не говорят только политики и парадные патриоты, у которых речь соответствует не внутренним ощущениям, а взятой на вооружение идеологии. Хорошо бы идеология соответствовала действительному положению вещей, но, увы, такое случается редко. Обычные же люди говорят, как чувствуют, а чувства подсказывают, что мир велик, а собственная страна перестала любить тебя, но призывает и настаивает, чтобы ты ее любил. Вам это знакомо? Скажете, виноваты хапуги разных мастей, недобросовестные чиновники, непорядочные политики и так далее и тому подобное? Согласен. Но откуда они берутся? Стоило бы иногда вместо «кто виноват» задаться вопросом «отчего». Правда, этот вопрос может так же легко оторвать вас от конкретики и увести в дальние дали, потому что одна причина вдета в другую, как матрешки. Природа человека неизменна, с этим не поспоришь, но в одних условиях он один, в других – другой. Проводили эксперимент: отпускали на свободу – в прерии, в джунгли, куда хотите – дрессированных зверей, выросших в цирке, и следили, выживут ли они на природе наравне с другими животными. Законы природы и правила человеческого (циркового) воспитания вступали в противоречие. У новичков не сразу просыпалось первичное, природное, а их сородичи, начисто лишенные вторичного (циркового) неизменно оказывались проворнее.
Есть понятие «национальный характер». Не знаю, насколько оно научно обосновано, потому что часто национальному характеру приписывают позитивные или негативные качества, присущие разным народам. Допустим, национальный характер вырабатывается веками в зависимости от условий, образа жизни, географического положения, климата, соседей, традиций… Но если народ не под колпаком, если он по сути интернационален, может жить где угодно, с кем угодно, то традиции со временем смешиваются, так что уповать на их чистоту не стоит. Пожалуй, из всех приобретений народа язык абсолютно и необратимо принадлежит ему. Язык, культура, духовность – тот багаж, который можно везти с собой куда угодно, не ставя на весы и не регистрируя.
Ассоциация с весами и регистрацией появилась в аэропорту «Звартноц», куда я приехал третьего дня встречать приятеля из Москвы. Пока ждал посадки самолета, любовался новым терминалом, достойным всяческих похвал. Ходил по коридорам и залам, заглядывал в чудесные магазины, останавливался у регистрационных стоек (их 46), и как раз объявили посадку московского самолета. У одной из стоек регистрировались пассажиры на этот же самолет, который должен был лететь обратно. Не знаю, замечали ли вы это странное обстоятельство: все пассажиры, собравшись вместе, становятся похожи друг на друга. В городе они вроде разные, а здесь появляется ощущение, будто все вылеплены по одному образу и подобию, причем вылеплены наскоро. Багаж у них, конечно, имеется, но не тот, о котором я говорил выше. Отсутствие того нерегистрируемого багажа отпечатано на лицах. Понимаю, ощущение субъективное, но безусловно объективным является то, что эти пассажиры сильно отличаются от летавших на этих же самолетах в девяностые. То была одна волна, эта – совсем другая. А одинаковость облика объясняется, скорее всего, одинаковостью цели. Конечно, я не стал говорить об этом московскому приятелю, восторгавшемуся замечательным аэропортом. Я, как заправский гид, рассказывал ему, что «Звартноц», напоминающий обликом одноименный храм по соседству, был сдан в эксплуатацию в 1980 году, дальше обновлялся, а в начале 2000-х за него взялась аргентинская компания. «Так это аргентинцы приложили руку? – удивился он, крутя головой. – А храм?»
К храму аргентинцы отношения не имеют. Он построен в VII веке при Католикосе Нерсесе Третьем. Считается одним из дерзновенных мировых архитектурных сооружений. Если верить преданию, император Византии Константин III в том же седьмом веке посетил Армению и, поразившись красотой храма, решил построить такой же у себя.
Он предложил строителю Звартноца ехать с ним в Константинополь. Аэропорта не было, поехали на верблюдах. Ехали, ехали… «Ну и?..» – нетерпеливо перебивает приятель. Ну и помер зодчий по пути, не доехал. «От чего?» Не знаю, может, заболел, может, с верблюда упал, а может, завистники отравили. «Ай-ай-ай, – качает головой приятель. – Но храм-то остался?» Храм простоял
300 лет и был разрушен землетрясением. В прошлом веке частично восстановлен. Теперь это музей. Плита осталась, на ней короткая надпись на греческом: «Построил Нерсес. Помяните». Приятель улыбается: «Помянем?» Обязательно, отвечаю, помянем, а как же.
Руслан Сагабалян






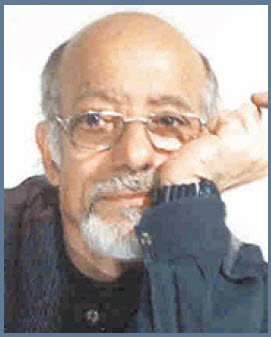
Оставьте свои комментарии